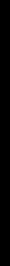Комиссионный список Новгородской I летописи, сообщая о постройках Всеволода в перечне «
А се князи русьстии», устанавливает — без упоминания о годах строительства — их последовательность: устройство 4 верхов Успенского собора, «
потом Всеволод постави церковь камену на своем дворе святого Димитрия в свое имя. И потом Всеволод постави монастырь Рожество святыя Богородици…» (Новгородская 1-я летопись... С. 468). Год постройки Дммитриевского собора указан в Летописце владимирского Успенского собора (известен в составе сборников XVII–XVIII вв., хранившихся в соборе): «
В лето 6699-е (1191) великий князь Димитрий Всеволод постави на своем дворе церковь каменну во имя великомученика Димитрия и верх ея позлати» (Шилов. 1910. С. 58).
Однако Димитриевский собор в настоящее время принято датировать иначе. Лаврентьевская летопись, сообщая о пожаре, случившемся 23 июня 6701 (1193) г. во Владимире, когда «города половина погоре, и княж двор…избавлен бысть от пожара», не упоминает о Димитриевском соборе, что дает основание предполагать, что собора еще не было; его закладка приурочена к рождению 25 окт. 6702 (1194) г. у кн. Всеволода сына Владимира, в крещении Димитрия. Окончанием строительства считается принесение и постановка в соборе 10 янв. 6705 г. (в связи с переходом с мартовского года на январский — 1198) визант. иконы вмч. Димитрия.
Посвящение кн. Всеволодом собора своему небесному патрону («в свое имя») делает излишней привязку к рождению его сына. Поэтому дата 1191 г. представляется более вероятной, причем употребление летописцем владимирского собора слова «постави», говорит не о закладке, а об окончании строительства, т. е. Димитриевский собор мог быть заложен не позднее 1187/88 г. Дворцовый княжеский храм, ставший по окончании строительства реликварием общехрист. святыни — иконы («дски гробной») вмч. Димитрия, должен был следовать в храмоздательных планах кн. Всеволода за обновлением после пожара главного храма княжества — Успения Пресв. Богородицы собора во Владимире, где хранилась др. визант. святыня — Владимирская икона Божией Матери.
Лаврентьевская летопись связывает свидетельство о Димитриевског собора с рассказом о святынях вмч. Димитрия (под 6705 (1197) г.: «Тое же зимы принесена бысть дска ис Селуня гробная ста [го] Дмитрия месяца геньваря в 10 день» (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 414) и под 6720 (1212) г., в Похвале Всеволоду (первое упоминание собора в источниках): «Многы ж церкви созда по власти своей, ибо созда церковь прекрасну на дворе своем святаго мученика Дмитрия, и украси ю дивно иконами и писанием, и принес доску гробную из Селуня святаго мученика Дмитрия, мюро непрестанно точащю на здравье немощным, в той церкви постави, и сорочку того ж мученика ту же положи» (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 436–437; Т. 7. С. 118).
Замысел создать во Владимирском княжестве новый реликварий вмч. Димитрия, покровителя визант. двора, превратив Владимир во вторую Фессалонику, мог созреть у кн. Всеволода задолго до вокняжения во Владимире — во время его пребывания в период изгнания (1162 — приблизительно до 1169) в Константинополе (ПСРЛ. Т. 2. С. 521) при дворе имп. Мануила Комнина. В 1148–1149 гг. император перевез из базилики в Фессалонике в константинопольский монастырьь Пантократора часть святынь вмч. Димитрия, а в 1158–1160 гг. послал неск. солунских святынь в дар прп. кн. Евфросинии Полоцкой. Мать кн. Всеволода также могла привезти с собой в качестве приданого частицу солунской святыни. Как имп. благословение перед возвращением на родину мог получить святыни вмч. Димитрия из солунской базилики и кн. Всеволод. Добавление («сорочку того ж мученика ту же положи») к летописному тексту о мироточивой «дске гробной» позволяет предположить, что святыни попали во Владимир в разное время; дань особого поклонения вмч. Димитрию отдавал кн. Юрий Долгорукий, нарекший в честь него город (Дмитров) и сына (Всеволода).
В Димитриевском соборе «дска гробная» стала храмовым образом. Икона была помещена либо у юго-восточного столпа, либо в южной части алтарной преграды. После 1380 г. (вероятно, в 1390–1400) по повелению кн. Димитрия Донского ее перенесли в Успенский собор Московского Кремля (ныне там же, под записью 1701 г. Кирилла Уланова).
Другой, находящейся в Димитриевском соборе святыней была «сорочка» — часть одежды или ткани покрова с тела мученика, возможно, с его шитым образом. Если эта частица была достаточно мала, то оправой для нее мог служить ковчежец в виде храма, находящийся ныне в Оружейной палате Московского Кремля. Возможно, в храме были и др. изображения вмч. Димитрия.
В 1218 г. Полоцкий еп. Владимир «принесе» вел. кн. Константину Всеволодовичу «етеру часть от Страстии от Господень... и мощи святаго Логина мученика, сотника святей его руце обе, и мощи святыя Марья Магдалыни» (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 441). Торжественным крестным ходом реликвии были перенесены в Димитриевский собор. Об их дальнейшей судьбе ничего не известно.